♥ Рассказы В.я.брюсова.♥
-
Our picks
-

В Азербайджане введены ограничения на услуги такси - ПОВЫШЕНЫ ЦЕНЫ. Таксисты в отчаянии: они не могут оплатить долги и почему выросло число заявлений жителей в связи с занятостью.
CвЕт ДуШи posted a topic in Дискуссии на общие темы,
Таксомоторная компания Bolt повысила стоимость заказов на 10%.
-
- 10 replies

Picked By
Assembler, -
-

Для захоронения в селах и поселках Баку необходимо потратить не менее 2 000 - 3 000 манатов
CвЕт ДуШи posted a topic in Дискуссии на общие темы,
Baku TV разоблачил незаконную торговлю землей на кладбищах.
В ходе расследования было установлено, что для получения места для захоронения в селах и поселках Баку необходимо потратить не менее 2 000 - 3 000 манатов. А стоимость места захоронения на Ясамальском кладбище особенно высока: 3 000 - 4 000 манатов на человека.
Стоимость места для одной могилы на кладбище в Хырдалане начинается от 1 100 манатов и варьируется в зависимости от местоположения.
На Мехдиабадском кладбище цена места на одного человека начинается от 2 000 манатов. Продажу мест на кладбище где-то контролируют муллы, а где-то председатели муниципалитета.
Подробнее - в сюжете Baku TV.
https://ru.oxu.az/society/869002
-
-
- 11 replies

Picked By
Assembler, -
-

ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ в связи с затоплением кварталов в Хырдалане - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
CвЕт ДуШи posted a topic in Дискуссии на общие темы,
Причина затопления улицы Мехди Гусейнзаде и 26-го квартала Хырдалана заключается в том, что данный район расположен во впадине.
Об этом в ответ на запрос Oxu.Az сообщил пресс-секретарь ОАО "Азерсу" Анар Джебраиллы.
Он отметил, что на указанной территории имеется канализационная инфраструктура. Именно этот участок - обочина дороги Сумгайыт - Баку является самой низкой точкой Хырдалана.
"Поскольку данная территория представляет собой впадину, дождевые воды, формирующиеся в Хокмели, Атъялы, а также самом Хырдалане, устремляются сюда. Поэтому во время интенсивных дождей канализационные линии не выдерживают нагрузки, что в итоге приводит к наводнению.
.
Хочу отметить, что в свое время вся эта зона сплошь состояла из луж, озер и тростниковых зарослей. Потом территорию засыпали землей, построили дома.
Если бы здесь не возвели здания, такой проблемы не возникло бы. Вода бы собиралась, часть ее впитывалась в почву, другая - испарялась, а третья - утекала.
Одна из самых больших проблем на сегодняшний день - именно эта. Строительные дельцы осушают озера и лужи, строят на их месте дома, а после возникают такие сложности. Потом граждане жалуются, что подвалы домов и улицы затоплены", - заявил А.Джебраиллы.
В завершение он отметил, что в настоящее время, когда дождь прекратился, большая часть проблем на упомянутой территории уже решена. Через пару часов воды там не останется.
15:46
Дождливая погода, наблюдаемая в Абшеронском районе, привела к последствиям в городе Хырдалан.
Соответствующая информация поступила на горячую линию Baku.ws.
На кадрах, сделанных одним из местных жителей, видно, что в Хырдалане затоплены улица Мехди Гусейнзаде и 26-й квартал.
Данная ситуация выявила нахождение канализационной системы на указанной территории в аварийном состоянии.
.https://ru.oxu.az/society/868584
-
-
- 21 replies

Picked By
Assembler, -
-

Завершился первый полуфинал "Евровидения-2024": наши представители не прошли в финал - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
CвЕт ДуШи posted a topic in Дискуссии на общие темы,
Завершился первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2024", который проходит в шведском Мальме.
Как передает Oxu.Az, по результатам голосования представители Азербайджана Fahree и Илькин Довлатов не прошли в финал конкурса.
Отметим, что второй полуфинал пройдет 9 мая, а финал - 11 мая.
7 мая, 23:27
В шведском городе Мальме начался первый полуфинал 68-го по счету песенного конкурса "Евровидение".
Как сообщает Oxu.Az, в первый день мероприятия выступят 15 стран, 10 из которых пройдут в финал.
Следует отметить, что Fahree и Илькин Довлатов представят нашу страну на конкурсе с песней Özünlə apar. Они выступят под 12-м номером. https://ru.oxu.az/politics/868797-
-
- 71 replies

Picked By
Assembler, -
-

В Баку снесут рынок Кешля
Gabrielle posted a topic in Дискуссии на общие темы,
Как сообщает Oxu.Az, соответствующая информация распространилась в социальных сетях.
Причиной стало начало строительства новой автомобильной дороги от улицы Гасана Алиева параллельно проспекту Зии Буниятова до станции метро "Кероглу".
Было отмечено, что снос будет осуществлен, поскольку часть дороги попадет на территорию рынка.
В связи с этим мы направили запрос в Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).
Пресс-секретарь (ГААДА) Анар Наджафли сообщил Oхu.Az, что проводится разъяснительная работа.
"В настоящее время подготавливаются размеры жилых и нежилых объектов, а также земельных участков, входящих в зону строительства. Проводится предварительная оценка строений, подпадающих под снос при проведении строительных работ. После того как эти работы будут завершены, можно будет что-то сказать по этому поводу", - сказал он.https://ru.oxu.az/society/868677-
-
- 39 replies

Picked By
Assembler, -
-

В одном из отелей в Сабаильском районе столицы зафиксировано массовое отравление.
Gabrielle posted a topic in Дискуссии на общие темы,
В прокуратуре Сабаильского района проводится расследование по факту смерти двух человек - Кянана Мустафаева 1998 года рождения, и Орхана Амирова 1993 года рождения, а также госпитализации с диагнозом «отравление» Ниджата Джаббарлы 1991 года рождения и Хазара Джаббарлы 1998 года рождения, доставленных с одного из предприятий общественного питания, расположенных на территории Сабаильского района.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.
Отмечается, что с целью установления обстоятельств происшествия, а также причин смерти и отравления пострадавших назначены соответствующие экспертизы, а также выполнены другие необходимые процессуальные действия.
14:32
В одном из отелей в Сабаильском районе столицы зафиксировано массовое отравление.
Как сообщает Bakupost.az, четверо мужчин, отдыхавших в отеле, были госпитализированы в 1-ю Городскую клиническую больницу с диагнозом отравление.
К сожалению, спасти двоих из них не удалось. Изначально предполагалось, что причиной стало пищевое отравление, однако медики не исключают и другие варианты.
https://media.az/society/v-stolichnom-otele-otravilis-chetyre-cheloveka-dvoe-skonchalis-
- 43 replies

Picked By
Assembler, -
-

Какое наказание предусмотрено за умышленное повреждение чужого автомобиля?
Gabrielle posted a topic in Дискуссии на общие темы,
В Баку одному из припаркованных во дворе автомобилей был нанесен ущерб острым предметом. Владелец машины поделился в соцсети соответствующими видеокадрами.
Как сообщает хezerxeber.az, в другом дворе с верхнего этажа здания на автомобиль был сброшен воздушный шар, наполненный водой. В результате владелец транспортного средства понес серьезный материальный ущерб.
В последнее время в соцсетях часто встречаются видеоролики в связи с умышленным или непреднамеренным повреждением автомобилей или другого имущества граждан. Юристы отмечают, что за намеренное совершение подобного деяния правонарушитель может быть привлечен к ответственности или лишен свободы.
Кроме того, если действие влечет за собой уголовную ответственность, на виновных может быть наложен штраф, в два-три раза превышающий размер причиненного ущерба. По словам юриста Шамиля Пашаева, подобные повреждения автомобилей не покрываются обязательным страхованием.
В Министерстве внутренних дел заявили, что в случае, если потерпевший сообщит об умышленном уничтожении или повреждении его имущества, в местном органе полиции немедленно начинается расследование. Если будет доказано, что ущерб был причинен умышленно, будут приняты меры, предусмотренные законом.
Подробнее - в сюжете:
-
-
- 45 replies

Picked By
Assembler, -
-

В Хачмазе 17-летняя девушка обручилась с 37-летним мужчиной - ЗАЯВЛЕНИЕ МВД. ЗАЯВЛЕНИЕ МАТЕРИ ЖЕНИХА
CвЕт ДуШи posted a topic in Дискуссии на общие темы,
В социальных сетях распространилась информация о том, что в селе Гусарчай Хачмазского района 17-летнюю девушку выдали замуж за 37-летнего мужчину.
Чтобы уточнить эти сведения, Bizim.Media связался с и.о. директора гусарчайской средней школы имени Арифа Мамедова Рауфом Мамедовым. Последний сообщил, что девушка (2007 г.р.) после шестого класса перестала ходить в школу. По его словам, свадьбы еще не было, состоялась лишь помолвка.
Комментируя данный вопрос, старший инспектор губинской региональной группы пресс-службы МВД старший лейтенант полиции Хаял Талыбов отметил, что в соцсетях распространилась информация о принудительном замужестве несовершеннолетней жительницы Хачмазского района. В ходе проверки, проведенной сотрудниками районного отдела полиции, было установлено, что М.С. (2007 г.р.) на добровольной основе была помолвлена с жителем хачмазского села Карагуртлу Т.Ф. (1987 г.р.). По его словам, вступления в брак не было.
Было подчеркнуто, что по данному факту в Хачмазском РОП проводятся необходимые мероприятия.
Они полюбили друг друга, и все произошло с их согласия. Мы попросили ее руки и получили положительный ответ.
Об этом заявила Рейхан Тагиева, 37-летний сын которой, согласно утверждениям, женился на 17-летней девушке.
Женщина также опровергла информацию о бракосочетании пары.
"Я сказала, что сыграем свадьбу, когда девушка станет совершеннолетней. В социальных сетях говорят неправду, что ей 15 лет и она вышла замуж по расчету. Я не богатая, и мой сын с трудом зарабатывает на жизнь. У девушки есть родственники, которым это не нравится, поэтому они выдумали такой сценарий", - добавила Р.Тагиева.
Подробнее - в сюжете Baku TV:
https://ru.oxu.az/society/868051 https://ru.oxu.az/society/868364-
-
- 234 replies

Picked By
Assembler, -
-
-
Recently Browsing 0 members, 0 guests
- No registered users viewing this page.
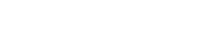









.jpg.ab5f04b742f06b4c02f4fa1758de7284.jpg)



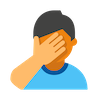



.thumb.jpg.d197ce0838f5feca228745239ef28c55.jpg)




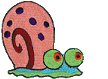

Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now